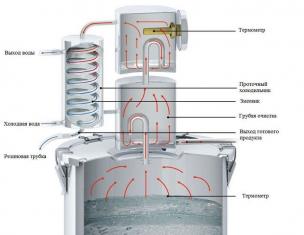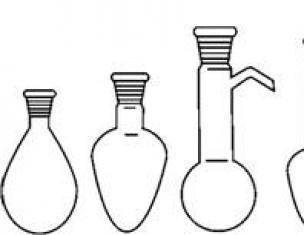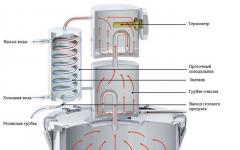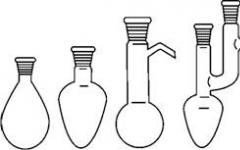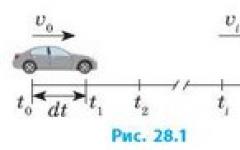Михаил Афанасьевич Булгаков
Давно уже отмечено умными людьми, что счастье - как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы,- как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!
Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!
Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город {1}. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за восемнадцать верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!
И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели - вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за тридцать копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных коими изобилует отечество мое.
До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.
Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!
На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия {2}, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.
О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.
Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.
Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье…
Сиделки бегали, носились…
Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции… Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? - Пожалуйста, вон - низенький корпус, вон - крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом - главный врач-хирург. Воспаление легких? - В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.
О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет…
Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого вьюжного участка.
Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы… Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений.
Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь… скрип саней… короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях… Потом все это боком кувыркалось и проваливалось…
«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит… Молодой врач вроде меня… Ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель… ну, и, скажем, май - и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло - придется, возможно, еще поездить… но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу… Никогда… Столица… Клиника… Асфальт, огни….»
Так думал я.
«…А все-таки хорошо, что я пробыл на участке… Я стал отважным человеком… Я не боюсь… Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил… Ведь… верно, нет, позвольте… А агроном допился тогда до чертей… И я его лечил, и довольно неудачно… Белая горячка…
Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию… Да ну ее… Как-нибудь впоследствии в Москве… А сейчас, в первую очередь, детские болезни… и еще детские болезни… и в особенности эта каторжная детская рецептура… Фу, черт… Если ребенку десять лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни… и ничего больше… довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?..
Давно уже отмечено умными людьми, что счастье - как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, - как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!
Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!
Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город . Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за восемнадцать верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!
И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели - вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за тридцать копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных коими изобилует отечество мое.
До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.
Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!
На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.
О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.
Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.
Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...
Сиделки бегали, носились...
Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? - Пожалуйста, вон - низенький корпус, вон - крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом - главный врач-хирург. Воспаление легких? - В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.
О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет...
Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого вьюжного участка.
Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений.
Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...
«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... Ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май - и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло - придется, возможно, еще поездить... но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Асфальт, огни....»
Так думал я.
«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил... Ведь... верно, нет, позвольте... А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка...
Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну ее... Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку десять лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?..
Зеленый огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно... Спать...»
Вот письмо. С оказией привезли...
Давайте сюда.
Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.
Вы сегодня дежурите в приемном покое? - спросил я, зевая.
Никого нет?
Нет, пусто.
Ешли... (зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо), кого-нибудь привежут... вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать...
Хорошо. Можно иттить?
Да, да. Идите.
Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.
В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк...
Я усмехнулся.
«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»
"орфий" - рассказ, некоторыми исследователями булгаковского творчества называемый также повестью. Опубликован: Медицинский работник, М., 1927 г., №№45-47.
Булгаков страдал морфинизмом и после перевода в Вяземскую городскую земскую больницу в сентябре 1917 г. Как вспоминала Т. Н. Лаппа, одной из причин отъезда в Вязьму стало то, что окружающие уже заметили болезнь: "Потом он сам уже начал доставать (морфий), ездить куда-то. И остальные уже заметили. Он видит, здесь, (в Никольском) уже больше оставаться нельзя. Надо сматываться отсюда. Он пошел - его не отпускают. Он говорит: "Я не могу там больше, я болен", - и все такое. А тут как раз в Вязьме врач требовался, и его перевели туда".
Очевидно, морфинизм Булгакова не был только следствием несчастного случая с трахеотомией, но и проистекал из общей унылой атмосферы жизни в Никольском. Молодой врач, привыкший к городским развлечениям и удобствам, тяжело и болезненно переносил вынужденный сельский быт. Наркотик давал забвение и даже ощущение творческого подъема, рождал сладкие грезы, создавал иллюзию отключения от действительности.
С Вязьмой связывались надежды на перемену образа жизни, однако это оказался, по определению Т. Н. Лаппа, "такой захолустный город". По воспоминаниям первой жены Булгакова, сразу после переезда, "как только проснулись - "иди, ищи аптеку". Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это - опять надо. Очень быстро он его использовал (по свидетельству Т. Н. Лаппа, Булгаков кололся дважды в день). Ну, печать у него есть - "иди в другую аптеку, ищи". И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит меня ждет. Он тогда такой страшный был... Вот, помните его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил: "Ты только не отдавай меня в больницу". Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала... Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он - как же я его оставлю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была".
В М. роль, которую в реальности исполняла Т. Н. Лаппа, во многом передана медсестре Анне - любовнице Полякова, делающей ему уколы морфия. В Никольском такие уколы Булгакову делала медсестра Степанида Андреевна Лебедева, а в Вязьме и в Киеве - Т. Н. Лаппа.
В конце концов жена Булгакова настояла на отъезде из Вязьмы в попытке спасти мужа от наркотического недуга. Т. Н. Лаппа рассказывала об этом: "...Приехала и говорю: "Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев". Ведь и в больнице уже заметили. А он: "А мне тут нравится". Я ему говорю: "Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что ты тогда будешь делать?" В общем, скандалили, скандалили, он поехал, похлопотал, и его освободили по болезни, сказали: "Хорошо, поезжайте в Киев". И в феврале (1918 г.) мы уехали".
В М. портрет Полякова - "худ, бледен восковой бледностью" напоминает о том, как выглядел сам писатель, когда злоупотреблял наркотиком. Эпизод же с Анной повторяет скандал с женой, вызвавший отъезд в Киев: "Анна приехала. Она желта, больна. Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля".
После приезда в Киев автору М. удалось избавиться от морфинизма. Муж В. М. Булгаковой И. П. Воскресенский (около 1879 - 1966) посоветовал Т. Н. Лаппа постепенно уменьшать дозы наркотика в растворе, в конце концов полностью заменив его дистиллированной водой. В результате Булгаков отвык от морфия.
В М. автор как бы воспроизвел тот вариант своей судьбы, который реализовался бы, останься он в Никольском или Вязьме. Скорее всего, в Киеве автор М. был спасен не только врачебным опытом И. П. Воскресенского, но и атмосферой родного города, после революции еще не успевшего потерять свое очарование, спасен встречей с родными и друзьями. В М. самоубийство доктора Полякова происходит 14 февраля 1918 г., как раз накануне булгаковского отъезда из Вязьмы.
Дневник Полякова, который читает доктор Бомгард, не заставший друга в живых, это своего рода "записки покойника" - форма, использованная позднее в "Театральном романе", где главного героя, покончившего с собой драматурга Максудова, зовут Сергеем, как и доктора Полякова в М. Показательно, что герой "Театрального романа" сводит счеты с жизнью в Киеве, бросившись с Цепного моста, т. е. в городе, куда смог вырваться Булгаков из Вязьмы и тем самым спастись от морфия и стремления к самоубийству. А вот герой М. до Киева так и не добрался.
В отличие от рассказов цикла "Записки юного врача", в М. есть обрамляющий рассказ от первого лица, а сама исповедь жертвы морфинизма доктора Полякова запечатлена в виде дневника. Дневник ведет и главный герой "Необыкновенных приключений доктора" . В обоих случаях эта форма использована для большей дистанцированности героев от автора рассказов, поскольку и в "Необыкновенных приключениях доктора", и в М. фигурируют вещи, которые могли компрометировать Булгакова в глазах недружественных читателей: наркомания и служба у красных, а потом у белых, причем не вполне понятно, как герой попал из одной армии в другую.
С большой долей уверенности можно предположить, что ранней редакцией М. послужил рассказ "Недуг". В письме Булгакова Н. А. Булгаковой в апреле 1921 г. содержалась просьба сохранить ряд оставшихся в Киеве рукописей, включая "в особенности важный для меня черновик "Недуг". Ранее, 16 февраля 1921 г. в письме двоюродному брату Константину Петровичу Булгакову в Москву автор М. также просил среди других черновиков в Киеве сохранить этот набросок, указывая, что "сейчас я пишу большой роман по канве "Недуга".
В последующем черновик М. вместе с другими рукописями был передан Н. А. Булгаковой писателю, который их все уничтожил. Скорее всего, под "Недугом" подразумевался морфинизм главного героя, а первоначально задуманный роман вылился в большой рассказ (или небольшую повесть) М.
Как-то после изучения школьной программы булгаковских произведений (естественно, речь идет о «Мастере и Маргарите» и о «Собачьем сердце»), мне захотелось открыть автора с другой стороны. На глаза попался рассказ «Морфий».
По содержанию он похож на сборник «Записки юного врача», но в этот цикл не входит. Впервые произведение было опубликовано в 1927 году. Вообще Булгаков учился на врача, поэтому во многих его произведениях затронута тема медицины. «Морфий» – не исключение. В конце 19 — в начале 20 века в аптеках абсолютно открыто продавались такие препараты как: героин в порошке как средство для лечения бронхита, астмы, настойка опия и, собственно, кристалл морфия.
Морфий-сильное обезболивающие и снотворное, являющиеся наркотическим веществом. Я ещё подумала, нужно ли вообще читать это молодым людям, тем более, наше поколение и так уже не «пепси», а поколение «спайса». Оказалось, стоит…
А уже в 20-ых годах 20-ого столетия, по статистике 40% европейских медиков и 10% их жен были морфинистами, на широкое применение кристалликов был наложен запрет. Тогда в 1926 году молодой Михаил Булгаков прибыл по распределению в село Никольское. Да-да, именно как доктор Бомгард. Ведь повесть на самом деле автобиографическая.
Булгаков употреблял морфий?
Да, именно поэтому ему удалость так детально описать необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности.
Михаил Булгаков попробовал впервые морфий не из-за жажды кайфа. Он помогал мальчику, больному дифтеритом, ему показалось, что он заразился: его лицо распухло, тело покрылось сыпью и начался зуд. Михаил, само собой, не смог этого терпеть и попросил вколоть ему морфий. Тут и понеслось, как говорится…
Причиной было ещё и то, что привыкший к городским развлечениям Булгаков совершенно заскучал в глухом Никольском, его угнетала сельская бытовуха, он впадал в депрессию. И вот, кажется, то самое спасение. Наркотик давал ту самую эйфорию и те самые чувства, которых ему не хватало, тот творческий подъем, который так был нужен. Уколы делала жена Михаила, она говорила, что после дозы он был достаточно спокоен и даже пробовал писать под кайфом. Вот и биографы говорят о том, что начало автобиографической повести «Морфий» было положено в дни этого спокойствия, так сказать. Морфий не хотел отпускать Булгакова, ещё бы, такая личность… Жене становилось страшно на него смотреть, она не знала, что делать, ведь муж регулярно требовал наркотик, изо дня в день убивающий его.
На борьбу с наркотиками (он употреблял и опиум, тогда он без рецепта продавался), ему потребовалось около трёх лет, и вылечится ему помог другой наркотик — творчество, но это можно считать чудом, которого не случилось с героем.
О чем книга?
Рассказ ведётся от лица доктора Бомгард, вторым главным героем является Сергей Поляков, его бывший сокурсник. Начинается все с того, что рассказчик делится с читателем своей радостью: его переводят из сельской местности в небольшой город работать, он доволен, если бы ни одно НО. Герою часто снится его старый участок, больные и, в конце концов, мысли начинают есть доктора изнутри. Он думает о судьбе глухой больницы, а сюжет закручивается, когда герой получает письмо из старого участка.
В этот момент я начала додумывать, причём здесь морфий, вроде бы, начало обыкновенного Чеховского рассказа с грустью и печалью… Так вот, что там с морфием, Михаил Афанасьевич?
Дело в том, что бывший сокурсник нашего доктора прислал письмо с просьбой помочь ему, так как он тяжело болен, а на следующее утро привозят тело Сергея Полякова. Вместе с ним дневник. Дальше повествование ведётся от лица самого морфиниста, что лучше всего позволяет проникнуть в его внутренний мир. Да, Поляков употреблял морфий из-за сильной боли и спазмов в желудке, а потом подсел на него и употреблял по любому поводу. Именно в этом дневнике мы поэтапно узнаем, что происходит с человеком, который зависит от наркотиков. У него и агрессивные припадки, и ломка. Это интересно читать, потому что сама тема наркотической зависимости покрыта мраком, а в рассказе открывается занавес тайны, ведь описывается каждый день героя с детальным изложением его чувств. Например, изображение блаженства после дозы настолько красочное, что я боюсь, детям до 18 эту повесть лучше не читать. Как и все обычные наркоманы, Поляков думает, что сможет отказаться в любой момент, но не тут-то было. Он боится разоблачения коллегами, потому что его выдают постоянно трясущиеся руки и расширенные зрачки. Булгаков описывает и галлюцинации, и растерянность Полякова, который в конце дневника все же написал, что ему стыдно было бы продолжать жить.
В финале доктор Бомгард публикует этот дневник спустя десять лет после смерти Сергея Полякова.
Проблемы
В первую очередь, здесь поднимается проблема наркотической зависимости. Дисгармония с самим собой во взаимодействии с каким-нибудь морфием порождает сложного и интересного героя в литературе, но обреченного на смерть человека в реальности. Какого это — ежедневно зависеть не от воды и еды, а умирать от недостатка химии в организме? Каково это — загибаться и мучиться от укола до укола, а в промежутке быть в каком-то своём раю?
Довольно глубокие психологические проблемы поднимаются в повести, которые актуальны и сегодня. Например, боязнь боли и ее последствий, явно преувеличенная пациентом. Человек ломается, не выдерживает натиска телесного недуга и обрекает себя на недуг нравственный – зависимость от морфия. Он загоняет себя в угол от недостатка мужества, от него же не может бросить пагубное лечение. Его обуревает страх осуждения и потери должности, поэтому он выстраивает баррикады, отгораживаясь от общества, которое могло бы помочь ему. Так жертва сама убивает себя, сжигая мосты, ведущие к спасению. Абсурдно, но герой погибает из-за малодушия, даже наркотик здесь второстепенен: он лишь подточил и без того никчемную волю.
Девиантное поведение героя Булгакова
Как и сам Булгаков, Сергей Поляков продолжил принимать морфий не столько по необходимости, сколько от скуки, от душевных мук. А оправдать герой себя пытается тем, что врачи должны пробовать препараты на себе, чтобы понимать, что чувствуют пациенты. Все мы понимаем, что это чушь, и что без надобности принимать что-либо — непростительная глупость. Все заходит слишком далеко, когда организм снова и снова, больше и больше требует дозы. Поляков сам замечает за собой неоправданную агрессию. Достаточно показательна сцена борьбы Сергея и фельдшерицы за ключи от аптеки, где хранится заветный наркотик. Герой деградирует на наших глазах: он грубит девушке, он озлоблен, только лишь не хватает звериного оскала. Наркотики превращают людей в животных. Но есть и достаточное количество сцен, где Полякову стыдно покупать кристаллы в аптеке, значит, в нем происходит борьба, он не безнадежен. Однако внутренний конфликт угасает под влиянием распада личности доктора: она теряет человеческие черты.
Распад личности происходит тогда, когда наш герой отказывается от лечения. Чаще и чаще героя посещает безумие: бледные люди, старушка и т.д. Доктору становится неважно, в каких условиях вколоть морфий, главное, это необходимо сделать. Конечно, внешний вид доктора Полякова выдаёт сегодняшнего наркомана: худ, бледен, достаточно много потерял в весе. Тем не менее, никто вовремя не помог ему, герой оказался в безвыходной ситуации. Необратимый процесс сделал своё дело, он не может больше ни о чем думать, Поляков становится рабом Морфия.
Хотя повесть и автобиографическая, но, тем не менее, доктор Поляков умирает, не справившись от зависимости, а сам Булгаков сумел побороть ее своей силой и желанием жить и творить.
Как Булгаков бросил морфий?
Пробовал перейти на папиросы с опиумом и сократить дозу, но все тщетно. Существует несколько версий, как писатель на самом деде бросил морфий.
Согласно одной из них, помогла ему жена Татьяна, которая вводила в вену дистиллированную воду, якобы Булгаков это принял и стал отвыкать от наркотиков, но наркологи отвергают эту версию. Согласно другой версии, Татьяна просто уменьшала процент морфия и усилено добавляла дистиллированную воду, что вероятнее. И, конечно, сыграло свою роль творчество. Когда человек живет чем-то, когда есть цель, идеи, вдохновение, тогда все возможно. Даже невозможное.
Нужно ли молодёжи читать эту повесть?
Спровоцирует ли описание блаженства от употребления наркотиков желание попробовать или же напротив оттолкнёт от него из-за смерти героя? И в этом ли вообще суть произведения? Да, доктор Поляков оставляет предупреждение всем людям о том, как постепенно человек гибнет, употребляя наркотические вещества, но есть и обратная сторона медали. Описывается эйфория героя. Это важно. Люди, которые разочаровываются в жизни, готовы пойти на все ради минутной радости.
Что это? Пропаганда наркотиков или попытка уберечь людей от этого зла — решать только вам, хотя я склоняюсь больше ко второму.
Интересно? Сохрани у себя на стенке!